-
-
Воробёв Константин Дмитриевич, писатель
(16.11.1919 – 2.03.1975)
Биография
 Константин Дмитриевич Воробьёв родился 16 ноября 1919 года в селе Нижний Реутец Медвенского района Курской области в бедной крестьянской многодетной семье. Константин Дмитриевич Воробьёв родился 16 ноября 1919 года в селе Нижний Реутец Медвенского района Курской области в бедной крестьянской многодетной семье.
Окончил сельскую школу, поступил в сельхозтехникум в Мичуринске, но вскоре вернулся в село, окончил курсы киномехаников и шесть месяцев разъезжал по деревням с кинопередвижкой. С августа 1935 года работал литературным инструктором в медвенской районной газете.
В 1936 году уехал в Москву, работал в редакции фабричной газеты «Свердловец» ответственным секретарём, а вечером посещал среднюю школу.
В октябре 1938 года призван в ряды Красной Армии, проходил службу в освобождённой части западной Белоруссии недалеко от города Рутка и вскоре назначен ответственным секретарём армейской газеты «Призыв» в городе Залиброве. После окончания воинской службы (июль 1940 года) работал литературным редактором газеты Академии Красной Армии имени Фрунзе, откуда направлен на учёбу в Кремлёвское Краснознамённое пехотное училище.
В октябре 1941 года кремлёвский курсант К. Д. Воробьёв, раненный и тяжело контуженный, попал в плен и прошёл Клинский, Ржевский, Смоленский, Саласпилсский концлагеря, 9-й Каунасский форт, Паневежскую и Шяуляйскую тюрьму и лагерь. Трижды бежал (Саласпилсский лагерь, 9-й Каунасский форт, Шяуляйская тюрьма). 24 сентября 1943 г. удачно бежал из Шяуляйского лагеря, и с тех пор эту дату он считал своим вторым днём рождения. С сентября 1943 года по август 1944 года командовал отдельной партизанской группой, состоящей из военнопленных, бежавших из лагерей. Группа входила в состав литовского партизанского отряда «Кястусис», принимала участие в освобождении города Шяуляй. После вступления в город советских войск К. Воробьёв был назначен начальником штаба МПВО города. 18 августа 1945 г. вступил в брак с Верой Викторовной Дзените. В этом же году у них родилась дочь Наташа, а в 1955 - сын Сергей. В 1947 году К. Воробьев был уволен в связи с демобилизацией тех, кто в годы войны был в плену, и переехал в Вильнюс, где работал в Министерстве промстройматериалов начальником УРСа, в Главукоопе старшим инспектором, заместителем директора сельхозснаба, директором промтоварного магазина.
С 1958 по 1966 год заведовал отделом литературы и искусства в газете «Советская Литва». С 1966 по 1975 год занимался творческой работой.
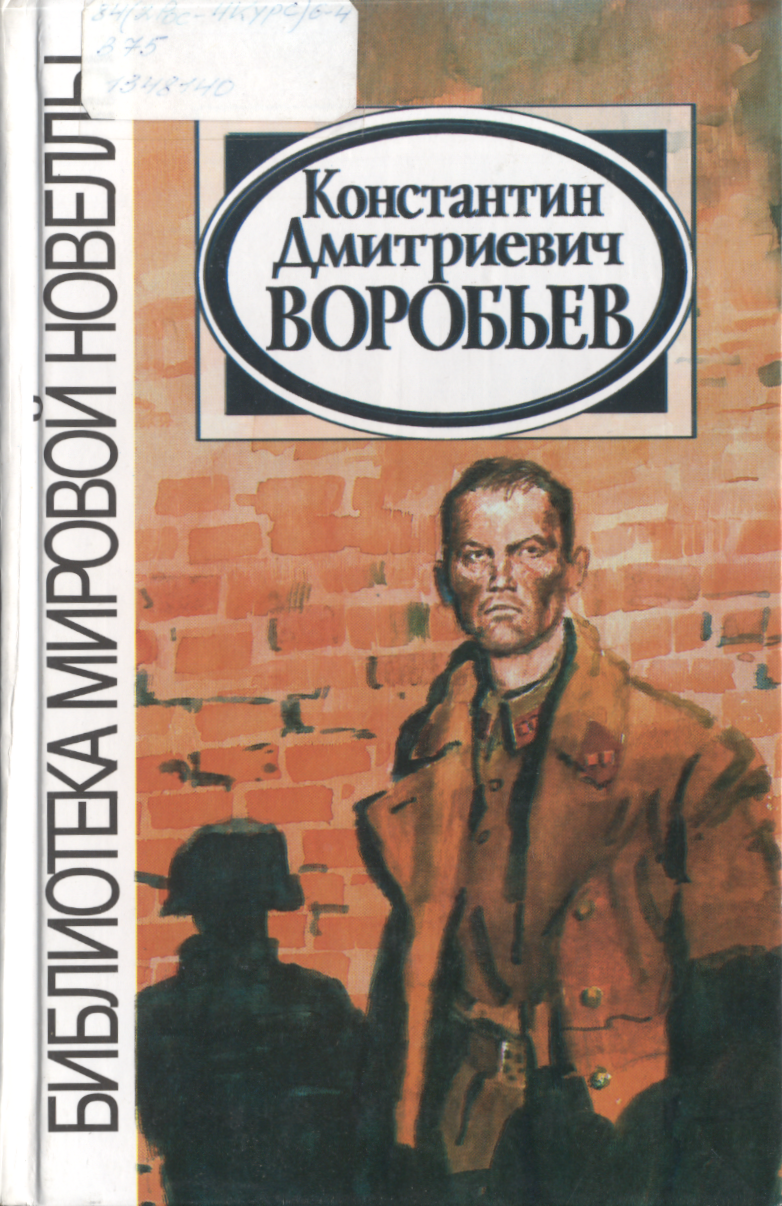 К. Д. Воробьёв написал 10 повестей, рассказы и очерки. Автор книг «Подснежник», «Седой тополь», «Гуси-лебеди», «У кого поселяются аисты», «Цена радости», «Сказание о моём ровеснике», «Крик», «Убиты под Москвой», «Почём в Ракитном радости», «Это мы, Господи!..», «Вот пришёл великан...», «Друг мой Момич». В 1991-1993 годах вышло собрание сочинений К. Д. Воробьева в 3-х томах, а в 2009 году - к 90-летию со дня рождения писателя — пятитомное собрание сочинений. К. Д. Воробьёв написал 10 повестей, рассказы и очерки. Автор книг «Подснежник», «Седой тополь», «Гуси-лебеди», «У кого поселяются аисты», «Цена радости», «Сказание о моём ровеснике», «Крик», «Убиты под Москвой», «Почём в Ракитном радости», «Это мы, Господи!..», «Вот пришёл великан...», «Друг мой Момич». В 1991-1993 годах вышло собрание сочинений К. Д. Воробьева в 3-х томах, а в 2009 году - к 90-летию со дня рождения писателя — пятитомное собрание сочинений.
Умер К. Д. Воробьев 2 марта 1975 года от тяжёлой болезни в Вильнюсе и был похоронен на Антакальском кладбище. 11 октября 1995 года прах К.Д. Воробьёва перевезён из Вильнюса и перезахоронен на Мемориале воинской славы в г. Курске.
8 октября 1991 года К.Д. Воробьёву (посмертно) была присуждена премия имени Преподобного Сергия Радонежского за лучшие литературные произведения для детей и взрослых («Это мы, Господи!..», «Убиты под Москвой», «Крик»). Вручение премии вдове писателя Вере Викторовне Воробьёвой проходило в храме Сергия Радонежского на Куликовом поле.
В 2001 году присуждена литературная премия Александра Солженицына Константину Воробьёву (посмертно) и Евгению Носову — «двум писателям, чьи произведения в полновесной правде явили трагическое начало Великой войны, её последствия для русской деревни и позднюю горечь пренебрежённых ветеранов».
 Тема Великой Отечественной войны — одна из главных в творчестве К.Д. Воробьева. Ей посвящены повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи!..», рассказы «Гуси-лебеди», «Седой тополь», «Подснежник», «Немец в валенках» и др. Существует мнение, что книги писателя опередили свое время, а его творческие открытия оказали существенное влияние на сложившиеся в общественном и художественном сознании представления о войне. Тема Великой Отечественной войны — одна из главных в творчестве К.Д. Воробьева. Ей посвящены повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи!..», рассказы «Гуси-лебеди», «Седой тополь», «Подснежник», «Немец в валенках» и др. Существует мнение, что книги писателя опередили свое время, а его творческие открытия оказали существенное влияние на сложившиеся в общественном и художественном сознании представления о войне.
Поэт и критик Геннадий Красников так писал о творчестве К. Д. Воробьева: «О войне им написаны страшные и великие страницы. Повести «Крик», «Убиты под Москвой», без преувеличения сказать, от одного корня с «Севастопольскими рассказами» Л. Толстого; этот корень — предельная, как на Страшном Суде, честность и сострадание. Война для него навсегда осталась потрясением, кодексом совести, любви и ненависти. Но и Толстой содрогнулся бы, прочитав написанную двадцатипятилетним Воробьевым повесть «Это мы, Господи!..» Эта проза — новое слово в русской литературе. Ее жанр можно определить как «послание к человечеству». Если сказано, что человеку дается по силам его, то Воробьев показывает, как человек проходит свою Голгофу на земле. И катарсис — слишком эстетическое понятие, для того чтобы постичь страдание героев повести. Кажется, еще никогда не был так слаб человек, но и так непобедим. После таких книг открывается глубокий смысл исторической судьбы России: мир всегда будет испытывать нас, не умея понять и принять. Ответы на это непонимание пытались дать и Толстой, и Достоевский, и Блок, и Л. Леонов, и М. Шолохов. Константин Воробьев дает свой ответ, исходя из трагического опыта нашего века».
«Тридцать лет после войны, осенью...»
...В последнее время много говорят и пишут о К. Воробьеве, отмечая при этом, что написано все еще мало, считают, и справедливо, что имя К. Воробьева стало в нашей литературе символом чести. Вот уж и впрямь: наступило время Константина Воробьева, как сказал один критик.
С горечью думаешь, что наступило несколько поздновато: ему бы наступить при жизни писателя. Конечно, А. Твардовский был прав, когда говорил, имея в виду литературные судьбы, что на этом свете лучше недополучить, чем переполучить: «Рано или поздно все размещается по своим полкам». Жаль, что размещается иногда слишком поздно, жаль, что мы бываем так непростительно слепы и медлительны, так скупы на добрые слова и жесты. Жаль, что говорим с опозданием те справедливые слова, которые так нужны бывают при жизни.
А при жизни - «или ругали, или молчали. В общем, все как положено», - писал К. Воробьев в одном из писем. Говорил (и не раз повторял), что равнодушен к хуле, иначе просто невозможно было бы ни жить, ни работать, но равнодушен не был: недобрые и несправедливые слова ранили, приносили огорчения, так же как добрые - радость и удовлетворение, придавали силы.
Но таких слов при жизни было сказано мало, и уж, конечно, в «обойме» он не числился - я имею в виду «обойму» писателей военной прозы.
Разумеется, дело тут не в качестве прозы - качество давало такую возможность. Здесь были как минимум две причины. Причина первая та, о которой сказал как-то Василь Быков: долгое время критика отставала от «новой волны» военной прозы, часть критиков, воспитанных на нормативной этике предыдущих лет, просто оказалась не в силах понять эту «новую волну», а «все непонятное, как известно, предпочтительнее отвергнуть, чем попытаться понять».
Говоря о другой причине, следует вспомнить статью И. Дедкова «Момент правды остается определяющим...»: «По сей день случаются статьи, где среди десятка имен писателей, пишущих о войне и армии, нет имени В. Быкова, как будто без него военная проза 60-70-х гг. вообще представима. Значит, для кого-то общество быковских героев малоприятно и обременительно. Чем-то они неудобны. Может быть, не всех устраивает быковское понимание природы героизма? Понимание человечности, ее неустранимости, неотменимости при любых условиях?» И затем, непосредственно сблизив В. Быкова с К. Воробьевым, отвергавшим «ничью» как выход из конфликта, И. Дедков говорил, что Быков - «тоже мастер отвергать «ничьи».
«Отвергнутая ничья» - так в свое время назвал И. Дедков статью о Константине Воробьеве. В ней вспоминался эпизод из повести «...И всему роду твоему», где главный герой ее, Родион Сыромуков, полемизирует с соседом по санаторной палате, Яночкиным, на разные темы. Не желая продолжать спор с чуждым и неприятным для него человеком, Сыромуков делает «компромиссный ход», предлагая признать обоюдную неправоту. Но «ничья» была предложена только на тот вечер, потому что у Сыромукова очень болело сердце и тяжело, когда воздух комнаты насыщен ссорой. «Ничья», мировая, даже если бы яночкины пошли на нее, всем ходом этой судьбы отклонена», - писал И. Дедков.
Мне могут возразить: но ведь В. Быков, а вместе с ним Г. Бакланов, Ю. Бондарев и некоторые другие из той же «волны» находились в свое время в таком же положении. Почему они вошли в конце концов в «обойму», а К. Воробьев - нет? (Не из престижных соображений я так настойчиво говорю об «обойме» - хочу понять.)
Вот тут-то кроется еще одна причина: Константин Воробьев существовал и чувствовал себя в литературе, как любимый его герой капитан Рюмин из повести «Убиты под Москвой» (не потому ли любимый, что alter ego писателя?) среди своей роты: вместе со всеми - и немного в стороне.
Что-то есть в Рюмине, в его поведении на войне от князя Андрея, который, глядя на гранату, вертящуюся, как волчок, и думая: «неужели это смерть», не дрогнет, не бросится наземь, помня о том, что «на него смотрят». Что-то от исконного представления о чести русского офицера, который при любых обстоятельствах должен был вести себя достойно, есть в нем. И от гордого достоинства автора...
...А впервые Константина Воробьева открыл А. Твардовский. Напечатав в 1963 году в «Новом мире» повесть «Убиты под Москвой», он таким образом представил его широкому читателю. Но по причинам, изложенным выше, открытие это не было подхвачено в те дни, как подхвачено было сегодня открытие, например, Вячеслава Кондратьева. Вероятно, ощущая несправедливость прошлых лет как груз общей вины, В. Кондратьев обмолвился как-то в том плане, что не пропустить бы нам новые талантливые имена, как пропустила в свое время критика Константина Воробьева и так мало сказала о нем при жизни.
«Убиты под Москвой» - одно из самых трагических произведений нашей военной прозы. В этой повести, рассказывающей о начальных месяцах войны, о гибели роты кремлевских курсантов, которая дралась не только отважно, но и рыцарски красиво, Твардовский увидел несколько новых слов о войне и захотел, чтобы слова эти были услышаны.
Стремление к правде, не урезанной в угоду спокойному, безмятежному существованию, а полной и оттого, быть может, кому-то неудобной, не нравящейся, желание видеть в жизни и в литературе крупные, яркие, независимые характеры, доброта, сердечность - отличительные особенности прозы К. Воробьева, который к тому времени написал и напечатал уже немало, присутствовали и в этой повести. И углубленный психологизм, умение запечатлевать «мгновенные и летучие мысли», своеобразная изысканность письма, в котором эмоциональность соседствовала со скупой недосказанностью, идущие от прежних произведений К. Воробьева, присутствовали тоже. Он умел писать с той степенью искренности, когда казалось, что каждое произведение о себе, а все, что было с его героями, непременно было и с ним самим. Впрочем, последнее .недалеко от истины...
...«И писать книги, и рисовать картины надо мягкими, теплыми тонами. И чтобы сердце обязательно знало и любило то, о чем хочешь сказать. Только тогда возможно помочь читателю и зрителю восхититься самим собой как человеком». В этой мысли художника Грачева, героя раннего рассказа К. Воробьева «Картины души», заключалась авторская позиция...
...«Писать мягкими, теплыми тонами» получалось, однако, не всегда - в первых рассказах К. Воробьева были не только светлые «картины души», связанные с детством, со встречами с хорошими и добрыми людьми, но и картины суровые: вынужденное отступление, плен, партизанские будни.
«Тысяча девятьсот сорок второй год. Весна. Латвийская станция Саласпилс - чистая, скромная и тихая, будто зачарованная. За ее невысокими строениями, на запад, к морю стелется луг... А дальше шесть тяжелых серых бараков, обнесенных пятью рядами колючей проволоки и восемью сторожевыми вышками. Это лагерь военнопленных «Долина смерти» - так начинался рассказ «Седой тополь».
О том, как жили военнопленные в том лагере, свидетельствует выразительная деталь: ствол тополя, стоящего посреди лагеря, от земли и пока достает рука самого высокого человека, был лишен коры - объели пленные.
Сегодня, когда уже столько написано о концлагерях, а в последние годы Виталий Семин в «Нагрудном знаке «OST» рассказал, и об арбайтлагерях, сегодня, когда кажется, что все, что можно было узнать об этом, мы уже знаем, рассказы К. Воробьева о фашистских лагерях, написанные в 50-е годы, волнуют по-прежнему.
В них - достоверные подробности, правдиво воспроизведенные человеком, лично пережившим ад этих лагерей, - те подробности, говорить о которых долгое время было не принято, потому что они плохо совмещались с «осветляющим ореолом доблести».
К. Воробьев рассказывает, что это такое: умереть не в бою, а от голода, в полной памяти, при открытых глазах - «тут видится смерть издалека, и при ее подходе каждый доходяга непременно кликал мать. Лежит в темноте и зовет. Бородатый. Сорокалетний. На воле командовавший батальоном или полком. Слушать это было страшно, - в мозгу начинало завязываться сумасшествие...»
Писатель не боится сказать о своем герое горькую правду, не боится показать его слабым, в какой-то момент потерявшим себя, далее ожесточенным, потому что знает: бесчеловечная обстановка порождает жестокую психику. Но и в этих условиях ни о каком примирении с обстоятельствами герой К. Воробьева не помышлял, и это был уже героизм, доступный лишь духовно сильным людям.
Двадцатилетний лейтенант Сергей Климов из «Седого тополя» может бросить в лицо старому полковнику, такому же военнопленному, как и он, чудовищные слова, исполненные горечи, злобы и тоски, когда тот пошатнет в нем высокие представления о человеке. Но он же, сам умирающий от голода, отдаст последний кусочек хлеба своему ослабевшему соседу и, до конца не желая примириться с пленом, организует коллективный побег.
Этим рассказ и заканчивается: Сергей Климов вместе с другими военнопленными бежит с поезда, увозящего их на работу в Германию.
Писатель верил в силу жизни и возможности человеческого духа. Поэтому в рассказе старый, полузасохший, искалеченный тополь не умирает, весной он «лопнул сухой древесиной в том месте, где его кору объели пленные, и в расщелину выперла и взбухла бледно-зеленая новая кора». И это ожившее дерево вдруг заставило Климова поверить в то, что он не умрет: «Он не знал, что случится с ним и что он сделает, но вера крепла...»
Позже герой К. Воробьева повзрослеет и наберется опыта. Внешне он останется таким же: «полудоходяга», на котором вместо гимнастерки - мешок с дырками для головы, и рук, но он уже не будет, как Сергей Климов вначале, ждать, что кто-то придет и освободит узников, скажет, как надо действовать, а сам станет опорой для тех, кто пал духом и разуверился. К. Воробьев расскажет о таком человеке в повести «Почем в Ракитном радости», во вставной новелле, которую читает наизусть своему дяде писатель Константин Останков.
Эта новелла — о Светлоголовом, военнопленном, который личным поведением показывал пример остальным, напоминая о чести и достоинстве. Светлоголовый мог крикнуть умирающему: «Послушайте, бывший командир! Ведите себя прилично!», и ему подчинялись, потому что чувствовали в нем сильного и волевого человека.
Новелла о Светлоголовом в определенной мере повторяет рассказ «Седой тополь», только герой здесь какое-то время словно бы раздваивается: на Светлоголового и того молодого лейтенанта, ровесника Сергея Климова, что рассказывает о Светлоголовом.
Многое надо было взрастить и воспитать в себе лейтенанту, чтобы стать достойной сменой Светлоголовому. Но то, что это души родственные - и по накалу чувств, и по биению сердца, понятно сразу. Оттого и выделил его Светлоголовый среди остальных, поставив позади колонны «подбадривать» отстающих. Он так и сказал «подбадривать», хотя был лейтенант самым младшим чином среди пленных командиров и потому думал, что ему нельзя учить достоинству тех, кто «больше» его.
Смерть Светлоголового, а она наступит, когда тот убедится, что лейтенант духовно стал вровень с ним, положит конец раздвоению образа. Светлоголовый и молодой лейтенант словно бы совместятся, сольются, и этот новый, возмужавший и закалившийся человек отныне сам станет отвечать за себя и за других.
...С Алексеем Ястребовым мы встретимся снова в повести «Убиты под Москвой»: после смерти деда он ушел к родной Красной Армии и вот теперь, будучи лейтенантом, командующим взводом, вместе с другими защищает подступы к Москве.
Нет, война - это не «величественное сооружение из железобетона, огня и человеческой плоти», как рисовалась она на расстоянии, а кровь, смерть, ужас, страдание, и потому в душе «не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны».
«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» - думает Алексей, когда ему докладывают о первых потерях. Но, посмотрев на курсантов, он понял, что «должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...» Отныне герои К. Воробьева твердо стоят на этой позиции.
Там, на войне, едва ли не самой трудной победой была победа над собой. Надо было пережить первую бомбежку, испытать страх смерти, впервые убить врага, чтобы, преодолев все это, обрести себя в новом качестве. Алексей Ястребов, пишет Воробьев, уже знал, что и как ему делать в случае нового обстрела, и знал, что он прикончит любого, кто, как и он сам, потеряет себя хоть на секунду.
«Невероятная явь войны» ломала прежние представления о многом, и надо было постараться укрепить веру в человеческие возможности. Надо было помочь душам неокрепшим поверить в себя, в свои силы, в незыблемый порядок вещей. Капитан Рюмин, который командовал ротой кремлевских курсантов, понимал это.
Видя, что рота попала в окружение, но желая оттянуть момент, когда все поймут это, Рюмин стремительным броском ведет курсантов в атаку, чтобы, сокрушив врага, они не так тяжко восприняли бы суровую правду. И добивается своего: ребята вкушают радость победы, хотя через несколько часов после успешной атаки немецкие танки уничтожат и вдавят их в землю.
Кто мог бы упрекнуть Рюмина в гибели роты? Но, потеряв тех, кто верил в него и любил его, он не захочет больше жить. «За это нас нельзя простить. Никогда!» - скажет он, виня в смерти ребят и себя тоже. Когда оставшиеся в живых, оглянувшись на приглушенный выстрел, подбежали к Рюмину, он лежал на спине и «правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера...».
Капитан Рюмин - в некотором роде предшественник и родной брат лейтенанта Княжко из «Берега» Ю. Бондарева. Так же, как Княжко, он верил в силу собственного примера. Его подтянутость, подчеркнутая элегантность, любовь к форме могли бы кое-кому показаться излишней роскошью на войне, если бы не пояснение Сыромукова, более позднего героя К. Воробьева, что на войне чаще всего и в первую очередь погибали «увальни, неряхи и растрепы». Но не только это наполнение - охранительное - нес в себе подчеркнуто-определенный жест Рюмина: когда появлялись «юнкерсы» и вся рота одновременно приникала к земле, Рюмин оставался стоять, и с губ его не сходила знакомая всем надменно-ироническая улыбка, точно такая же, какая была на лице у Княжко в сходной ситуации. Рюмин понимал, что кто-то должен напоминать о достоинстве, и напоминать об этом повелевал себе.
Рассказывая об обстоятельствах, которыми испытывался человек на войне, К. Воробьев, кажется, нигде так жестко не сталкивал бесчеловечность войны с поэзией жизни, как в повести «Крик».
...Разве может помешать война, если человек полюбил, впервые, и человеку только двадцать лет, а у нее, оказывается, даже фамилия такая же, как у него, и день рождения у них в один и тот же день, ну не чудесное ли совпадение? И не страшна ему война, а если и страшна, то лишь боязнью за нее. И хочется выдумывать для нее слова и названия, не существующие в мире, и хочется думать, что все это скоро кончится - гул войны и грохот орудий, и жить они будут долго и счастливо, и душа у него сейчас широко распахнута навстречу всему доброму и прекрасному.
Не только о бесчеловечности войны, о личной трагедии Воронова рассказал писатель, но и о тяжком пути прозрения, которое, однако, не озлобило и не помешало выстоять. Выясняя для себя причины военных неудач, Воронов и его друг, сержант Васюков, тоже раненным попавший в плен, решают не думать о них: «Тут, в плену, мы... не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и про наши трудности, ни про майора Калача и про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, - мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми...»
Не только о бесчеловечности войны, о личной трагедии Воронова рассказал писатель, но и о тяжком пути прозрения, которое, однако, не озлобило и не помешало выстоять. Выясняя для себя причины военных неудач, Воронов и его друг, сержант Васюков, тоже раненным попавший в плен, решают не думать о них: «Тут, в плену, мы... не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и про наши трудности, ни про майора Калача и про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, - мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми...»
А через день он услышит ее крик - и, обернувшись, увидит на пригорке взрыв, и в нем ее, летящую...
Не только о бесчеловечности войны, о личной трагедии Воронова рассказал писатель, но и о тяжком пути прозрения, которое, однако, не озлобило и не помешало выстоять. Выясняя для себя причины военных неудач, Воронов и его друг, сержант Васюков, тоже раненным попавший в плен, решают не думать о них: «Тут, в плену, мы... не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и про наши трудности, ни про майора Калача и про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, - мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми...»
А еще через день, тяжело раненный, он попадет в лагерь для военнопленных и очнется возле «поленницы», из которой «и все почему-то вверх, в небо» будут торчать синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону, к колонне, стриженые обледенелые головы будут медно светиться, и ему покажется, что они - звучат...
Понимая, что шансов выжить практически нет, и думая, что его везут на расстрел, герой этой повести, Сергей Воронов, заботится о том, чтобы достойно умереть, потому что в достойной смерти - достоинство жизни и вызов врагам: «...надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо...»
Не только о бесчеловечности войны, о личной трагедии Воронова рассказал писатель, но и о тяжком пути прозрения, которое, однако, не озлобило и не помешало выстоять. Выясняя для себя причины военных неудач, Воронов и его друг, сержант Васюков, тоже раненным попавший в плен, решают не думать о них: «Тут, в плену, мы... не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и про наши трудности, ни про майора Калача и про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, - мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми...»
Свой путь прозрения прошел взводный Письменов («Дорога к мужеству пролегала здесь»). Растерявшись при отступлении, он набрасывался с угрозами на сержанта, единственного, кто сохранил мужество в такую минуту. Тогда-то и понял Письменов, «почему слабые и несправедливые люди, незаконно или по ошибке поставленные у власти над другими, неизменно и в первую очередь стремятся обвинить в чем-нибудь самого сильного и правого, - этим они устраняют из жизни опасность примера и сравнения и утверждают себя в праве на произвол»...
...Так же вглядываемся мы в К. Воробьева сегодня через тридцать, сорок лет после войны: тот ли он, каким был в начале своего творчества, не стал ли и впрямь писать «что-то общепохожее, эпическое, спокойное»?
Нет. Он все тот же, яростный и непримиримый, и та же высота поступков, идеалов, принципов, руководствуясь которыми он хотел бы и других научить в любом случае не отчаиваться и не унывать, а надеяться и верить.
Е. Джичоева
(Джичоева, Е. Притяжение : сб. лит.-крит. статей
/ Е. Джичоева. - Воронеж, 1987. - С. 90-119.)
|
© КОНБ им. Н. Н. Асеева |
